Третья Соната Прокофьева - Попытка Расшифровки Образного Строения
22 сентября 2011(Очень жаль, что формат данного сайта не позволяет включать графику в текст статьи - это лишает Вас возможности здесь же видеть нотные цитаты тем, о которых идёт речь. Всё это есть в оригинале.)
Несмотря на одночастность и относительно небольшой объём, сочинение это давалось композитору, видимо, нелегко и длилось 10 лет (с 1907 по 1917 гг.) — срок огромный. То есть, начало было положено ещё на 3-м году обучения в консерватории (в 16 лет), в пору «задорных опытов юности», а закончена Соната была уже в довольно зрелом возрасте вместе с «Классической симфонией». Как мы увидим дальше — данное сочинение того стоило! К тому же, чем дольше пишется произведение, тем больше событий происходит за этот период, тем больше мыслей рождается и тем значительней и глубже идея. Безусловно, гениальное сочинение сочетает в себе и мальчишеский задор, и мастерство зрелого композитора, реализованное в полной мере.
Знаменательно то, что создание этого шедевра захватывает период с 14 по 17 годы — годы, по мнению Н.Я.Мясковского, отмеченные неким переломом в мироощущении Прокофьева в сторону углублённости, душевного богатства. Не только взросление, но и начало первой мировой войны, вероятно, были тому причиной. Эмоциональная палитра образов простирается от бурной, подчас взрывной энергии до трепетной лирики, а то и полной «замороженности», отстранённости. Именно в этот период композитор осознаёт наличие в жизни, помимо необузданной стихии, ещё и вселенской скорби, и вселенского покоя и тишины.
С малых лет Прокофьева сопровождают две важные вещи: тяга к театральности и подверженность страхам. И, конечно же, всё это проявилось и в Третьей Сонате, поэтому ни на секунду нельзя забывать о ярчайшей образности мышления композитора. Вдобавок к его естественной склонности, увлечённый веяниями времени, он ещё и стремился писать «эмоционально-заразительную музыку», броскую, звучную, контрастную.
Ещё один немаловажный момент — кино, бурно развивавшееся в те годы. Этот вид искусства сразу же захватил Прокофьева и неизбежно оказал влияние на его композиторский стиль. Эйзенштейна (гениального кинорежиссёра, поставившего с музыкой Прокофьева фильмы «Александр Невский» и «Иван Грозный») поражала «способность Прокофьева мгновенно заражаться зрительным впечатлением и передавать в музыке сущность художественного образа, запечатлённого на пленке». Здесь же хочется добавить, что и в остальной музыке, написанной не для кино, мы часто можем легко уловить различные сугубо кинематографические эффекты.
Но самое главное, на мой взгляд, это, несмотря на обилие бунтарства и дерзости, резкостей и колкостей в его музыке — великолепный мелодизм, и в этой романтической сонате в частности (а вспомните гениальную тему 2-го ф-п Концерта, начатого в этот же период!), мелодизм, который, к сожалению, нередко игнорируется некоторыми педагогами и исполнителями. Правда, лирика Прокофьева, по мнению многих исследователей, «в значительной степени лишена чувственности, любовности, эротики, она, в основном, созерцательна, олицетворяя Добро в противоположность Злу, имеющему часто саркастический, а то и юмористический оттенок». Может быть. Где-то, в чём-то. Однако, каждый решает для себя сам, насколько это верно в каждом конкретном случае. Я, во всяком случае, сильно сомневаюсь. И даже не только сомневаюсь, но и вообще не поддерживаю. Просто уверен, что это не так.
Театральная природа контраста «масок и открытого лица» даёт богатейшие возможности для фантазии пианиста. Вероятность одновременного пребывания героя в нескольких образах (своего рода матрёшка) значительно расширяет границы трактовок. А детские страхи композитора можно ощутить и в более зрелых произведениях. Кажется, что он и в зрелые годы оставался большим ребёнком. Достаточно прочитать его Автобиографию, написанную поразительно искренне и непосредственно, чтобы убедиться в сказанном.
Мне не удалось ничего узнать о достоверной версии программы этой сонаты, скорее всего таковой и не существует (впрочем, честно говоря, я и не убивался в её поисках). Поэтому все те образы, к которым я апеллирую в данном труде, это моя собственная фантазия, продиктованная самòй структурой музыки Сонаты, её фактурой, интонациями и т.д.. Да и в любом случае, даже при наличии официальной композиторской программы, каждый педагог или исполнитель, на мой взгляд, должен самолично проштудировать музыкальную ткань произведения и на предмет соответствия программы, и на предмет нахождения собственного способа адекватной трактовки образов — так сказать, «приватизировать» содержание.
Хочу представить вам не один, а несколько параллельных возможных образов, хотя совершенно очевидно, что их может быть множество. И, конечно же, эти образы не нужно воспринимать всерьёз, глубоко вдаваясь в детализацию и пытаясь проследить логику их жизни и взаимоотношений в произведении. Я предлагаю лишь некую основу, своеобразный толчок для полёта фантазии. Вспомните Этюд-картину Рахманинова «Красная шапочка». Разумеется, ни о какой Красной шапочке Сергей Васильевич не думал во время сочинения этого шедевра, и вообще он не детский композитор. Просто сказал, видимо, первое, что пришло на ум, потому что его замучили вопросами о программе Этюда. Отдалённо, конечно, похоже на «противостояние» Волка и Красной шапочки, но, безусловно, как-то мелковато, несерьёзно. Особенно для такого гиганта как Сергей Васильевич Рахманинов, который глубочайше переживал людское горе, ощущал нутром все те несчастья и беды, которые выпали на долю не просто многих людей — целых народов, и чувствовал ответственность чуть ли не за всю несправедливость на Земле! Вот где надо искать программу и находить образы! Хотя, конечно, и не исключено, что кого-то больше воодушевляет «трагедия» Красной шапочки.
В конечном счёте, мне бы хотелось не навязать какую-то конкретную трактовку, а принципиально как бы «заразить» подобной формой творческого подхода к произведению вообще и к данной Сонате в частности.
Воображение должно быть постоянно включено у музыканта, а просто «перечислить» ноты теперь может и любой бездушный компьютер. Но, для того, чтобы создать собственную интерпретацию (а ценность исполнения именно в ней!), необходимы убедительные образы, хотя бы для самого себя.
Вспомните Ахматову, её стихотворение «Творчество»:
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы, и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шёпотов и звонов
Встаёт один всё победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растёт трава,
Как по земле идёт с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И лёгких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
1936 г.
На мой взгляд, данная Соната может быть калейдоскопом детских воспоминаний Прокофьева, запавших в душу композитора, оставивших след в его памяти. А может быть и глубочайшим размышлением над судьбами Мира, или даже пророчеством. Впрочем, это мог бы быть и просто сон. Или даже всё вместе взятое! Эти образы мало контактируют между собой, мне не удалось построить логичный рассказ от начала до конца, да его, скорее всего, и нет. Отдельные эпизоды следуют один за другим, получается такая яркая мозаика, которая причудливо связана лишь тематизмом, постоянно трансформирующимся, порой до неузнаваемости. Но даже набор из, казалось бы, не связанных между собой образов может, хотя бы приблизительно, составить определённое целое, в котором постепенно, порой даже неожиданно, выкристаллизовывается идея (как в живописи, когда кажущиеся поначалу разрозненные пятна вдруг образуют вполне узнаваемый образ). Идея, которая может принудить о многом задуматься. И уже одно это заставит произведение прозвучать по-особенному — так рождается интерпретация!
Впрочем, ничто абсолютно не мешает каждому попытаться выстроить свою логическую цепь образов и событий, которые смогли бы вылиться в стройное повествование.
И последнее, чем хочу предварить разговор о Сонате — её форма. Сама форма не есть предмет моего анализа и я хочу лишь договориться о терминах. Это одночастная Соната, хотя сонатное аллегро и получилось несколько необычным, особенно реприза. Всего получается 5 эпизодов, имеющих совершенно чёткие границы. Но слово «эпизод» мне понадобится для более мелкого деления, поэтому я буду называть их частями. Итак, внутри одночастной Сонаты условно будет 5 частей.
И теперь, имея в виду всё вышесказанное, откроем ноты Сонаты. Тут, поначалу, всё просто — Allegro tempestoso, т.е. бурно, порывисто, неистово, исступлённо, яростно (всё, что приходит на ум при описании грозы — громы и молнии!) вполне соответствует первым тактам произведения. Темп желателен близкий к пределу срабатывания репетиционной механики рояльных клавиш, не менее 160 на четверть, но я бы рекомендовал темп пордка 180 ударов в минуту. Счёт необходимо вести «на раз», т.е. мерной единицей в музыкальном предложении должен быть целый такт. А чем быстрее темп, тем легче этого добиться.
Разумеется, там, где будут интонации, можно кратковременно отступить от взятого темпа — где-то чуть передержать длинную ноту или паузу, где-то расставить, где-то, наоборот, поджать. Агогику никто не отменял, ни в коем случае не выключать музыканта!
{Вариант 1} Первые два такта — это явные раскаты грома, пугающие, даже порой наводящие ужас, поэтому мне представляется играть их как единую звуковую массу на fortissimo, без дифференциации верхних нот и без выделения третьих и первых аккордов в триолях, так, чтобы этот своеобразный та-тàм та‑тàм не стал главенствующим. Формообразующей для этого образа мне представляется прежде всего динамика — либо непрерывное crescendo к третьему такту, чтобы ворваться в призывную тему правой руки, либо, наоборот, оттенить её вступление, произведя изрядную звуковую вспученность к началу второго такта — как бы сделав угрожающий выпад, — и несколько отступив к началу третьего. Оба такта, разумеется, на одной педали.
{Вариант 2} Или же можно трактовать эти два первых такта как взрыв и стремительное появление из дыма на воображаемой сцене образа зла, некоего «Мефистофеля», не обязательно из «Фауста» Гёте, но чем-то очень похожего на него, танцующего зловещую тарантеллу. В этом случае танцевальность становится главенствующей, требующей отменной ритмичности, чёткости всех двадцати четырёх триольных восьмых и лишь слегка избыточного подчёркивания аккордов.
{Вариант 1} Саму прекрасную тему, как бы звучащую в исполнении трубы, можно себе представить в двух подвариантах — крупно, агрессивно, на одном нюансе, одним размашистым мазком, как фанфары, сопровождающие проезд Зевса в своей колеснице по небесному своду.
Либо, сообразуясь с мелодическим рисунком, изобразить её очень напористой в 3-м и 4-м тактах, но сникающей в 5-м и 6-м, образующей мелодическую дугу в эмоциональном, звуковысотном и динамическом смыслах — как душевное состояние напуганного человека, борющегося со страхом, но пасующего перед стихией.
В своей вершине (в 4-м такте) мелодия будто стремится всё выше (интервал ля—до явно должен стремиться вверх на терцию, а не падать на сексту), но голос как бы срывается и силы покидают его. И это происходит на фоне «завываний ветра» в левой руке (этот хроматизм нам встретится ещё не раз!), где акценты служат не столько подчёркиванию басов, сколько опорой пятого пальца для прыжка на большой интервал.
{Вариант 2} Или же, продолжая тему «Мефистофеля», можно представить себе его победоносную песню, в которой он «подпускает петуха» (а если иметь в виду его сущность с рогами и копытами, то можно сказать «даёт козла»). Но это его ничуть не смущает, он вовсе не старается петь как Карузо, ему главное — выразить своё состояние триумфа! А в скачкàх в левой руке можно представить его могучие прыжки и стремительное передвижение по сцене.
Самое главное — в первом варианте избегать мысленного дробления образов грозы и темы трубы на куски по полтакта (а тем более по четвертям!)— это всё разрушит. Такая игра, как сказал кто‑то из великих, будет, конечно, не безобрàзной, но безòбразной — точно! Повторюсь: мыслить только тактами!
Во втором же варианте это не так критично и вполне можно мыслить по полтакта.
Следующий «шеститакт» повторяет предыдущий, но с ещё бòльшим накалом.
{Вариант 1} В 14-м и 15-м тактах раскаты грома стихают, предвосхищая появление в 16-м такте новой, тихой, на мой взгляд, робкой и одновременно лукавой темы тарантеллы, начальный фрагмент которой Прокофьев лихо позаимствовал у Сен-Санса из Финала 2-го ф-п Концерта.
Как начинающийся дождик, эта полётная тема создаёт своими каплями невинный и незлонамеренный образ Природы, и уже совсем не страшно.
Подголоски в левой руке не должны затенять длинные ноты в правой в такте 17. Нужно обязательно услышать, как терция си—ре, затихая, перекатывается через шестнадцатую в терцию ре—фа, как бы задавая вопрос:
Здесь нам очень поможет подписанная мной динамика.
И точно так же нужно прослушать аналогичный мотив в такте 19, как бы ответ на заданный в 17-м такте вопрос.
Отголоски великолепной темы трубы в тактах с 20-го по 26-й, secco, будто тени былой силы, приобретают гротескный, если не комический характер. От «буйных ветров» в левой остались одни воспоминания — в 20-м такте ля—ля—ляb—соль, в 21-м — соль—сольb—фа—ми. Но этот хроматизм ещё проявит себя.
Ещё слегка погромыхивают дальние раскаты в тактах 21, 23 и 25, пытаясь нас напугать своими внезапными forte, но нам до них уже нет никакого дела. Думаю, на forte в этих тактах, несмотря на secco, нужно взять педаль на одну четверть, создав этим как бы устрашающую звуковую волну, хотя эти её попытки уже несерьёзны.
{Вариант 2} Совсем другой образ уготовил нам «Мефистофель». Надев в 14-м и 15-м тактах благообразную маску и притворившись «своим», с 16-го такта он резвится в общем хороводе, танцующем тарантеллу. Но просто веселиться ему скучно, творить зло куда веселее! Изменённая тема величия, secco, в 20-м такте звучит затаённо — задумывается недоброе. И вот он то толкнёт кого-то, то подставит кому-то ножку, а то подойдёт к рампе и приоткроет своё лицо зрителям, чтобы они не забывали, «кто тут главный»! Всё это можно услышать во внезапных forte в тактах 21, 23 и 25.
Вот вам два различных образа, но может быть и третий вариант!
{Вариант 3} В 14-м и 15-м тактах наш «Мефистофель» вдруг замечает, что к хороводу присоединяется нечто божественное — девушка — стройная, хрупкая, нежная, воздушная и «далее по списку». Он замирает в восхищении, а начавшаяся в 16-м такте тема из Сен-Санса рисует ЕЁ танец, полный изящества и грации. Он на какое-то время обезоружен, его темки в secco полностью утратили своё величие и выглядят смехотворно! Он, заворожённый, в 20-м такте подступает к НЕЙ и пытается вместе с ней танцевать, но получается нелепо, неловко, он сбивается с ритма, оступается — и это можно услышать во внезапных forte в тактах 21, 23 и 25.
Возвращаясь к {Варианту 1}, можно представить себе, что мы находимся в саду, в беседке, и поэтому живо и непосредственно ощущаем то, что происходит вокруг. Рядом стоят большие, красивые деревья, знакомые нам с детства. И вот на фоне дождя пробегает лёгкий ветерок, едва качнувший тонкие ветки — это можно услышать в новой теме, похожей на звуки арфы, свободной и безмятежной, появившейся в такте 29.
Одновременно ей вторит левая рука и этот дуэт позднее получит своё дальнейшее развитие. Троекратное повторение этой темы образует первую волну, до 35‑го такта, в которой каждое новое проведение происходит на более высокой ступени и на crescendo, позволяя думать, что дуновения ветерка становятся всё сильнее. Однако пока это не нарушает состояния умиротворённости.
Вторая волна начинается в 37-м такте и звучит басовитее, а вместе с левой этот дуэт постепенно начинает напоминать завывания — ветер заметно усиливается, начинает раскачивать и толстые ветви. Здесь crescendo гораздо значительнее. Добром это не кончается — порывы с 44-го такта всё нарастают, раскачивая деревья, и, наконец, одно не выдерживает и, с грохотом, падает (такты 52-53), вызывая наше огромное сожаление и связанные с этим деревом трогательные воспоминания, о которых речь пойдёт дальше — во второй части. И это первая из трёх катастроф, которые нам предстоит пережить в этой Сонате.
Октавы в левой, будто наткнувшись на препятствие, замирают на доминанте к до#-минору, и в такте 54 вдруг мелодия начинает течь очень плавно, увлекая нас из, казалось бы, очевидного трагичного до#-минора в светлый и покойный До-мажор. Эти тональности так близки на клавиатуре… и так далеки по характеру! Так и кажется, что вслед за этой мелодией взор и мысли переносятся далеко‑далеко, даже дальше реальности — в прошлое.
И вот в 58-м такте, наконец, появляется, как Венера из пены волн, чарующая тема, причём, настолько выразительная, что у меня не хватает воображения на то, чтобы услышать в ней что-то иное, чем величайший образец любовной лирики (да простят меня авторитеты!). Темп снижается вдвое — четверть 76.
Это совершенно очевидный любовный дуэт, в котором один голос (скорее мужской) начинает фразу, а другой голос (явно женский) перебивает и допевает эту фразу до конца. Впрочем, возможно, всё было и наоборот — это не так важно. Они не спорят, нет, это похоже на объяснение в любви. Нужно показать эти два голоса разными тембрами. Для этого предлагаю первые четыре ноты, первый голос (ми—до—си—ми второй октавы), играть на piano и лёгким прикосновением, а второй голос сыграть на mezzo piano, более плотно, добавив вес кисти. Желая привлечь внимание слушателя к вступлению второго голоса, предлагаю сыграть в октаве ми—ми нижнюю ноту более подчёркнуто и чуть запоздав по отношению к верхней (буквально на одну 32-ю или даже 64-ю). А объединить эти два такта (58-й и 59-й) в цельную фразу поможет подписанная мной динамика.
И так эти голубки воркуют на протяжении 8 тактов, а лёгкий и тёплый ветерок левой руки способствует романтическому настроению. В 66-м такте тема переходит в левую руку и становится более напряжённой. Видимо, как это нередко бывает, влюблённые начинают спорить, например, о том — кто из них любит больше и чья любовь в большей степени навеки.
Здесь я бы, наоборот, подчеркнул начальную мелодию, состоящую из нот со штилями вверх — отчасти ради разнообразия, но, в основном, из-за половинки соль#, которую хочется дослушать до конца. Вестѝ двухголосие нужно столь же дифференцированно, как и в предыдущем случае.
Спор — штука опасная! Не прошло и 4-х тактов, как в теме появились нотки обиды (такт 70, здесь просто минор) и даже буквально до слёз (такт 71, гениальная хроматическая, плачущая интонация ми—миb—ре вкупе с ляb, делающим лад как бы минором в квадрате)! Этот момент очень хочется и прослушать самому, и оттенить так, чтобы на него обратили внимание и слушатели. А для этого я бы сыграл это место чуть сдержав темп и на subito pianissimo. Но вот извинения приняты, тучки растаяли и слёзы высохли — такую метаморфозу являют нам следующие два такта.
Пусть вас не смущают скоротечность событий и их количество на протяжении всего лишь нескольких тактов — это нормально для воспоминаний и снов, помноженных на особенности музыкального языка.
После слёз дуэт звучит на октаву выше (такты 74-77), признания становятся ещё более нежными и хрупкими. Кажется, что среди такой идиллии даже птички начинают подпевать влюблённым — в 78-м такте появление новой темы даже трудно заметить, настолько она сливается с предыдущим настроением.
Возможно, это тема покоя и мира на Земле. Через четыре такта она слегка варьируется, приобретая черты колыбельной, которая, благодаря портаменто на двух последних долях каждого такта, будто что-то приговаривает или ворожит, или настойчиво убеждает нас в чём-то, уговаривает нас погрузиться в мир грёз. Или окунуться в блаженство...
Однако и она, и тема любви претерпят в будущем ужасающую метаморфозу.
Пока же ничто не нарушает тишины, и тема мира и блаженства, явно добившись успеха, незаметно подводит к заключительной, умиротворённой теме (такт 86), которая нас окончательно убаюкивает и будто постепенно гасит свет на сцене.
Она плавно опускает нас с заоблачных высот на землю (как на воздушном шаре, на октаву по причудливому ладу — до—си—сиb—ляb—соль—фа#—ми—ре—реb—до), и мы засыпаем в неведении, и словно Время останавливается вместе с ritenuto assai в последних двух тактах второй части. Замечу в скобках, что эта тема станет впоследствии темой хорала, дальнейшее превращение которого повергнет всех в ужас.
Внезапное Allegro tempestoso бьёт как обухом по голове. Началась третья часть. Что это? Взбесившаяся тема ветерка из 29-го такта? Какую характеристику ей придаёт композитор — дико, хищно, жестоко, свирепо! Она взвивается ввысь словно ракета, но вкупе с левой рукой это больше похоже на вой летящего пушечного ядра, которое, падая, взрывается в аккорде такта 95. Нужно наброситься на малую секунду fortissimo и, разогнавшись, на едином дыхании сыграть эти два такта, и врезаться со всего маху в последний аккорд, который, безусловно, не в состоянии сдержать бешеный напор одной единственной восьмушкой — это будет, как минимум, четверть!
Последующая тема трубы явно представляет нам горнистов военного лагеря, трубящих тревогу. Так и видишь кадры кинофильма, в которых камера выхватывает то одного горниста, то другого, то третьего, а в тактах 99-100 все трое трубят одновременно — мы не раз видели в исторических кино подобные эпизоды. Но чаще — в фильмах-сказках, в эпизодах встречи королевских послов или выезда на охоту. Как и всегда в подобной музыке, здесь должна скандироваться каждая нота.
И вот, в такте 101, появляется образ кровожадной военной машины, этакого монстра, который, как гигантский паровоз, неудержимо набирает обороты. А гудок этого паровоза (фа Большой октавы, явно в исполнении тромбона) отнюдь не уберечь кого-то хочет, он не предупреждает об опасности, а изрыгает воинственный клич!
На его фоне корчатся какие-то обломки темы любви (фа—ми—ре—фа). Или это сама «любовь» приобрела звериный оскал, внезапно взбесившись, и издаёт свирепый рык, многократно повторённый в пассаже в тактах 105-106. Или это эхо криков, доносящихся из глубин ада. И снова гудок, и снова эхо, перерастающее в пронзительный визг! Кошмар всё нарастает с поднимающимися в тактах 111-113 страшными секстаккордами в левой руке, но…
Всё же странным кажется diminuendo в этом месте, поставленное Прокофьевым. Парадокс! Музыкальный язык говорит о нарастании, а композитор ослабляет звучность…
Дело в том, что это типично кинематографический приём — отъезд камеры. Мы как бы отдаляемся от этого кошмара и звук стихает. Этот приём применяют, когда зритель уже впечатлился данным эпизодом и его нужно переключить на параллельную линию сюжета. Поэтому agitato в такте 114 начинается с mf, давая возможность нового взлёта, нового нарастания звучности.
Но, что это за тема, кажется, она что-то напоминает? Действительно, это тема мира и блаженства из второй части!
Но как сильно она изменилась! Это больше похоже на страстный призыв: — опомнитесь, что вы делаете! А может быть даже, что это горе и страдания, и вскрики от боли — взлетающий интервал тритона си—фа!
Всего четыре такта — и она наталкивается на новую тему — грозную и непреклонную. Но это же тема тарантеллы, почти полностью! По своему характеру здесь она звучит как истинная тема судьбы!
Пощады от этого монстра ждать не приходится, его сопровождают настырные аккорды сначала в левой, а затем в правой руке. Я глубоко убеждён в том, что здесь просто необходимо чуть сдержать темп, сыграть более значительно, особенно октавы в первом такте, в противном случае она пролетит легковесно. Сама тема звучит резко, пронзительно, а вкупе с аккордами ещё и трескуче. Она всё повышается и повышается, и становится всё более агрессивной и даже визгливой. От её напора становится буквально трудно дышать...
И снова «камера отъезжает», нас опять «переключают» и мы слышим появление другой темы, очень знакомой... Это снова тема любви...
Только все мы — и исполнитель, и слушатели, и сама тема — выглядим в первом проведении запыхавшимися (такт 123), поэтому Moderato piano dolce нам всем не очень удаётся. Можно представить, как нижний голос плачет, то поднимаясь по хроматизму, то спускаясь, а верхний пытается его утешить, приговаривая какие-то ласковые слова.
Но постепенно приходит успокоение и уже второе проведение (такт 128), ещё больше сбавляющее темп и звучность, Piu lento pianissimo dolcissimo, течёт гораздо безмятежнее, умиротворённее, даже отрешённее. И такое впечатление, будто нас, растерянных и обескураженных, вводят в храм в такте 132, где звучит новая прекрасная тема хорала (помните — я упоминал её раньше?). Однако красота её несколько омрачается строением на абсолютном хроматизме плачущих нисходящих интонаций, из-за чего характер у неё получается, хотя и светлый (мажор), но скорбный.
Автор поставил в этом месте Animato, которое вовсе не говорит нам об ускорении, каком-то оживлении, суете, а наоборот — принуждает к укрупнению мерной единицы музыкальной мысли — двухтакту, что заставляет течь время практически в два раза медленнее!
Мы переступаем порог храма именно в том месте, где появляются бархатные басы октав оргàна (тоже на теме любви), струящихся из огромных труб, устремлённых ввысь, под самый купол, и детские голоса на клиросе темой хорала дополняют торжественность происходящего. А в такте 134 бас настолько глубок, что он не только обволакивает нас целиком, но и проникает глубоко внутрь нас своей вибрацией. И это — остановка времени, «замороженность», «чудо чудное» (как в эпизоде волшебства в «Руслане и Людмиле» Глинки), «кульминация» тишины, благоговейной прострации, достигаемой фантастическим мастерством композитора...
Как затишье перед грозой. Потому что уже через такт начнётся мучительный подъём на кульминацию всей Сонаты. В такте 136, там, где Прокофьев поставил crescendo, там ещё самое тихое место — и там начнётся восхождение на Голгофу.
Обратите внимание на ещё один штрих — троекратное повторение хода миb—до в басу в тактах 132-135, 136-139 и 140-143. Это и гул доносящегося издалека звука огромного колокола (не удивляйтесь, что басы являются и оргàном, и колоколом одновременно — это же сон!), но это ещё и замкнутый круг, из которого нам долго не удаётся выбраться (хотя нам и кажется, что мы путешествуем по совершенно разным тональностям («абсолютники» не в счёт!)). И только в такте 144, где композитор поставил alzando, мы, наконец, вырываемся скачком на квинту до—соль и даём волю эмоциям! Сам термин alzando, переводимый как «возвышенно», «открыто», здесь скорее должен быть трактован в переносном смысле — «размашисто», что очевидно импонировало Прокофьеву и часто им использовалось.
В такте 140 стоит con effetto forte, и тема любви, хотя и похожа по построению на начало второй части, но это уже совсем не нежное объяснение, а страстная клятва, причём, с каждым тактом всё больше похожая на клятву отомстить какому-то обидчику. Возможно ли, чтобы тема любви стала темой возмездия? Видимо — да. И происходит это волнами, по два такта каждая, направлением снизу вверх, от басов к дискантам. Эти волны нагнетают напряжение, вздымаясь и обрушиваясь на начальные аккорды следующего двухтакта. Но в третьем двухтакте волна поднимается в каждом такте и это учащение, вместе с allargando, является предыктом к fff con elevazione в 146-м такте. Это кульминация всего произведения, длящаяся шесть тактов, плюс два такта краха — уже второго в Сонате.
Здесь, на fff, снова звучит прекрасная и скорбная тема хорала, которая вместе с указанием композитора — «возвышенно» — могла бы стать величественным гимном любви, звучи она в сопровождении другого аккомпанемента. Но эти «завывающие» аккорды в левой, написанные огромными мазками-волнами, сначала карабкающиеся с неимоверной тяжестью, а потом будто сползающие, неспособные удержаться на достигнутой высоте. Поэтому эпизод больше похож на выражение отчаяния, на душераздирающий рёв преисподней, шум пламени и гул от воплей грешников. А если учесть, что всё это следует сразу за клятвой, то не является ли оно напоминанием о каре небесной или даже проклятием?
Хочу обратить внимание на то, что и здесь есть состояние замкнутого круга в басах, только теперь на субдоминанте и доминанте — нотах ре и ми. И выбраться из него уже невозможно!
Любопытно, что такты 152-153 — эпизод краха, крушения, обрушения, слома, гибели — задуманы Прокофьевым нюансом ниже предыдущего. Он поставил здесь лишь два форте в отличие от трёх в предыдущем эпизоде. Очевидно, что для композитора эпизод отчаяния и кары был важнее, именно ему он придавал наибольшее значение, а крах, хотя и страшен — это всего лишь неизбежное последствие.
(Говорят, что Генрих Густавович Нейгауз как-то объяснил своему студенту эпизод краха и последующие за ним несколько тактов таким образом: упал кухонный шкаф и из него стали разбегаться тараканы. Видимо, этот образ был наиболее доступен для понимания того студента.)
Несколько слов о темпах. Поскольку это не Шопен, который далеко не всегда выставлял возврат к первоначальному темпу после замедлений в надежде, что пианист и сам поймёт где вернуться, здесь, после allargando в 145-м такте, темп не возвращается к Allegro, а весьма умерен, практически Andante. Только нужно суметь в сдержанном темпе избежать механистичности, для чего лучше всего создать некие ритмо-динамические волны по два такта, несколько затягивая начало волны и чуть ускоряя к концу. И так в каждом двухтакте.
А в 151-м такте ещё одно замедление — ritardando — которое ведёт к почти полной остановке. Крушение происходит как в замедленных кадрах кинофильма — тем ужаснее впечатление!
Последний аккорд нужно буквально рвануть, но так, чтобы верхняя ми осталась звучать надолго — медленный темп, плюс фермата, плюс ещё целый такт соло! Весь 153-й такт звучит на одной педали и она снимается плавно (как рассеивающееся молоко пыли после взрыва, постепенно оседая, обнаруживает контуры разрушенного здания), и непосредственно перед тем моментом, когда вы почувствуете, что оставшемуся в одиночестве верхнему ми хватит звучания ещё только на один такт. Понятно, что на пианино и на концертном рояле это время будет сильно отличаться.
Нужно предельно осторожно и, по возможности, незаметно перетечь из умирающей ноты ми в сольb, такую же тихую, «еле живую», а затем в фа. Здесь туше должно быть очень надёжным. Чтобы не потерять ноту, лучше не играть лёгкими пальцами, а добавить известный вес и напряжёнными пальцами медленно нажимать клавиши — близко к пределу срабатывания механики. Играя лёгкими пальцами, мы передоверяем ответственность клавиатуре, далеко не всегда идеальной, зато напряжённые пальцы своей избыточной силой нивелируют недостатки клавиатуры. А громкость зависит только от скорости нажатия, лишь бы не слишком медленно, когда молоточек просто не сможет долететь до струны. Поэтому я всегда предпочитаю в медленных пианиссимо напряжённые пальцы.
Продолжение следует.
Источник: fb.ru
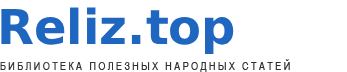





 10 вещей, которые иностранцы не советуют друг другу делать в России
10 вещей, которые иностранцы не советуют друг другу делать в России Девушка, выигравшая почти 2 млн £ в 16-летнем возрасте, рассказала, на что она потратила целое состояние
Девушка, выигравшая почти 2 млн £ в 16-летнем возрасте, рассказала, на что она потратила целое состояние Король племени в Африке работает садовником в Канаде, чтобы прокормить народ
Король племени в Африке работает садовником в Канаде, чтобы прокормить народ Ловись рыбка большая и посимпатичнее... Рыбак делится фото самых диковинных рыб, каких ему приходилось ловить
Ловись рыбка большая и посимпатичнее... Рыбак делится фото самых диковинных рыб, каких ему приходилось ловить 10 идей для дизайна маленькой ванной комнаты
10 идей для дизайна маленькой ванной комнаты Мужчина "застрял в 70-х", но за неделю до свадьбы решил удивить невесту: она была счастлива, увидев перевоплощение будущего мужа
Мужчина "застрял в 70-х", но за неделю до свадьбы решил удивить невесту: она была счастлива, увидев перевоплощение будущего мужа